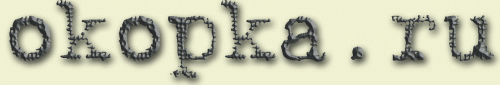
|
||
ПОБЕДА
(из дневников А.К.; предшествующие записи в рассказе ''Вагон'' )
Святая связь времён утрачена, Течёт усталая вода, Плывём распяты, расказачены, Из ниоткуда в никуда. (Н. Жданов-Луценко)

Пусто было на берегу укромной бухты, пусто было и в душе, окончательно расстроенной непрошеным визитом. Солнце, проглянувшее было в случайный на обложном октябрьском небе просвет, скрылось, исчез из виду ещё недавно маячивший у горизонта рыбачий баркас, и даже молчаливая от своего одиночества чайка спряталась в скалах, устав бороться с ветром. Менее четверти часа тому назад, за огромною скальною глыбою укрылись от непогоды и мы, давая некормленым лошадям роздых перед подъемом. Тогда-то, улучив покойную минуту, грезы настигли меня:
... мы шли по пляжу, Анна Сергевна неслышно ступала по мелкой гальке, я же отмечал свои шаги неблагозвучным хрустом камня под толстою подошвой сапога и мысль о том, что звук этот раздражает её, не давала словам построиться в нужные фразы, отчего разговор начался самым нелепым образом:
- Ты жива?
- А ты? - она улыбнулась одними уголками губ и, поправляя небольшую плетёную шляпку, почти неприметным движением вернула на место выбившуюся прядку волос.- Но ты чудесно выглядишь ... - ''Но ты'' - передразнила она, - мог бы пройтись по щекам бритвой ... - Прости, сегодня утром не с руки было этим заниматься, да и мыла не было ... давно не было ... у вас есть мыло? В ответ она нервически, на грани срыва, рассмеялась. - А если нет? Ты вышлешь почтой? - Куда?! Если тебе не удалось уйти, то почтовые отправления не дойдут до вас с нашими марками. - Это такие ...'За единую Россию' со св. Георгием-Победоносцем? - Они самые, откуда ты знаешь? - Видела у Грушиных конверт, Виталию удалось передать письмо с кем-то ... а вот ты не пишешь. - Но я же не знаю где ты! - мне показалось, что отчаяния в моем голосе достаточно, чтобы она сжалилась и открыла тайну своего появления. - Ну да, разумеется ... не знаешь, что ж, придется довольствоваться теми неотправленными письмами, что лежат у тебя в планшете вместе с дневником. - И это тебе известно! Ты их ... читаешь? Анна Сергевна помедлила с ответом: - И да и нет ... знаешь мне пора уже, у соседей тиф, надо помогать, - она слегка сжала мне руку чуть выше локтя. - Пора ... - Пора, Ваше благородие! Резко обернувшись, я встретился взглядом с Ивана Ефремовичем, подъехавшим вплотную и озабоченно заглядывающим мне прямо в глаза: - Ваше благородие - пора, солнце-то высоко уж как, проплутали почитай часа три, кабы не опоздать ... - он отпустил мою руку, которую до этого сжимал чуть выше локтя. По всей видимости на слова я не откликался, вот и пришлось ему меня тормошить. - Да ... Вы правы ... - развернув лошадь, я оглядел остальных членов отряда. Кроме Сережи все были хмуры, смотрели в землю да ежились от холода; никто не переговаривался и безмолвие их усталости воспринималось мною как укор. Разумеется, на горных тропинках с пути сбиться - проще простого и особой вины я за собой не чувствовал, но сегодня ошибаться нельзя. Никоим образом! - Выступаем! Порядок прежний: вахмистр, Вы замыкающим! Я натянул поводья и норовистая, в сумятице нашего отступления определенная мне полковым коноводом кобыла, так и не подружившаяся со мною за последнюю пару недель, громко фыркнула, поняв, что придётся ей на протяжении ещё нескольких вёрст сбивать копыта о каменистую тропу, но подалась вперёд и перешла на ходкую рысь. С самого рассвета пробирались мы сквозь отроги Ай-Петринской яйлы, старательно сверяясь с картою и пытаясь разобраться в пометках, наспех нанесенных на неё пожилым, скверно говорящим по-русски татарином, которого под утро Пелагея привела в дом, надеясь, что удастся уговорить его быть проводником. Но тот наотрез отказался, боясь быть захвачену вместе с нами, и даже обещание отдать за услуги роскошного полковничьего скакуна не возымело действия: старик лишь прошёлся своим узловатым пальцем по каждому дюйму карты, останавливаясь на развилках и описывая по памяти приметы, которые позволят не потерять направление. Коня же он получил и так. Федор Семенович, не сделал никаких распоряжений перед кончиной и ахалтекинский жеребец, ещё накануне несший полковника Могилевского в последнюю и для него, и для Армии атаку, будет отныне возить дрова и воду. Незавидная участь для боевого скакуна: подняться от Екатеринодара до Харькова, узнать всю радость наших побед, с новою надеждою выйти весной в цветущие таврические степи из крымской 'бутылки' для того, чтоб по слякоти осенней быть загнанным обратно и потерять седока. Получив в живот случайную, наугад пущенную пулю, полковник недолго оставался в седле, изошёл кровью, осел всем телом на руки ординарца и лишился чувств. Часом позже, заботами фельдшера он пришёл в себя, интересовался общей обстановкой, исходом боя и известиями из Севастополя, где грузились на корабли прикрываемые нами пехотные части. Затем, в бреду уже, стал умолять дать ему умереть на руках у его престарелой няни, проживавшей поблизости на небольшом хуторе. Запас времени у нас был: противник отброшен и до утра никаких обходных маневров предпринимать не сможет, поэтому командующий решил удовлетворить предсмертную просьбу. Мне приказано было отобрать трех человек и незамедлительно отправляться в путь. В сопровождение вызвались бывшие подле раненного штабс-ротмистр Николай Васильевич Ахматов и незнакомый вахмистр, судя по красным кантам, с Дона, а третьим я определил Ивана Ефремовича. Сережа, воспитанник Крымского кадетского корпуса, неведомыми путями добившийся посреди учебного года разрешения отправиться добровольцем на фронт и состоявший последнее время при Могилевском порученцем, умолял чуть не со слезами взять и его; пришлось уступить, но с условием, что пока снаряжают подводу, он обернется до штаба и обратно и привезёт письменное дозволение оставить расположение. Не знаю какие он употребил аргументы в штабе, только не успел скорбный конвой выехать за околицу, как Сергей нагнал нас с требуемым разрешением, а десять минут спустя, цокот копыт заставил взвести курки, но из повисшего над дорогой морозного тумана галопом вылетел конь без наездника и с оборванными поводьями: полковничий Яхонт не пожелал расставаться с хозяином. Федор Семёнович же впал в беспамятство в самом начале пути и не пришёл в себя, даже когда внесен был в небольшой чистенький домик своей няни. Мы намеревались, не мешкая, отправиться в обратный путь, но тут полковник беспокойно заметался, стал часто и глубоко дышать, и поняв, что он уже пред самою смертию, решили дожидаться конца. Не говоря ни слова, в бездумном оцепенении, сидели мы на шатких стульях вокруг постели умирающего и лишь изредка привставали, с тем чтобы помочь Пелагее поменять воду в мисочке, где она смачивала тряпицу, кладомую ею полковнику на лоб для смягчения жара. В четвертом часу ночи Федор Семенович, вдруг внятно попросил пить, но едва пригубил из поданного ему стакана, как по телу его прошла волна легкой судороги, лицо исказилось от нестерпимой боли и гримаса мучения так и застыла на нём, усиленная пронзительным, уже немигающим взором. Хоронили тайно, в укромном месте, чтобы красные не нашли могилу и не надругались над ней. Наскоро очистив шинели от налипшей глины мы собирались уже отъехать, но осознали вдруг, что сил на обратный путь не осталось совершенно. Тогда Пелагея предложила поспать у неё пару часов в тепле и пообещалась привести тем временем человека, знающего тропу напрямик через горы. Она сию же минуту ушла за ним, а мы, даже не назначив караульного, повалились прямо на пол. Разбуженные вскорости Пелагеей и наставленные указаниями татарина, мы отправились через горы, как только стало светать ... нет, это не рассвет, это блестит сквозь расступившиеся деревья море! Происшедшее минувшей ночью причудливо смешалось с реальными событиями в утомленной отчаянным напряжением последних дней голове. Радостное возбуждение нежданно овладело мною, полуопущенные веки, с тяжестью которых уже не было сил бороться, широко раскрылись, губы сами собой расплылись в улыбке и, чуть пристав в стременах, я весь подался вперёд, словно желал оказаться на опушке раньше собственной лошади. Через миг я вылетел на небольшую, нависшую высоко над морем площадку, и застыл на месте как громом пораженный. Насколько хватало глаз простиралось передо мною серое полотно однообразности осеннего пейзажа: внизу волны, наплывая из казавшегося спокойным морского далека, все более и более покрываясь пенным навершием, накатывались на берег и оставляли на нем свои тающие белые шапки, а вверху тяжелые тучи уходили к далекому горизонту на встречу там с волнами. Но в одном месте, подобно косым черным стежкам из грубой ворсистой пряжи, наложенным на порванный холст неумелой портнихой, соединяли небо и землю дымы ушедших кораблей. Все мысли, чувства, желания мгновенно свились в колючий ком, тяжесть которого стала для головы невыносимой и он, давя всё на своем пути, стал проваливаться внутрь тела, перекрыл горло, остановил дыхание, защемил затрепыхавшееся сердце и отозвался пронизывающей болью в животе. Не то что слово сказать - оборотиться не смел я к своим спутникам, явственно однако ощущая их присутствие, ибо звенящая тишина отчаяния враз соединила нас, превратила в одно испуганное существо, подобное взятому на гон зверю, ухнувшему в ловчую яму уже у самой спасительной кромки леса и с предсмертным изумлением многооко смотрящему последний раз в небо. Эту поразительную, мною никогда ранее не испытанную общность разорвал протяжный, невыносимо тоскливый гудок одного из пароходов. И тут же, глумливым эхом со стороны города послышались звуки бравурного марша - это конница красных входила на окраины. - 'Прощай Люси, прощай Ивон, уходит русский легион,' - отозвался неожиданно вахмистр словами песенки завезённой в дивизию русскими добровольцами защищавшими Францию и присоединившимися к нам два года назад. Пошлые куплеты эти, особенно в непечатной их части, были необычайно популярны среди нижних чинов и, возмущенный, развернулся я к распевшемуся в столь неподходящий момент казаку, но вид штабс-ротмистра заставил забыть про запевалу. Николай Васильевич, вытянувшийся в седле, как на параде, был неправдоподобно бледен и даже губы не выделялись на белом как мел лице его, покрытом, несмотря на леденящий ветер, мелкой испариной, глаза остекленели, а пальцы судорожно шарили по ремню в поисках кобуры. - Штабс-ротмистр Ахматов! - закричал я, не представляя ещё как окончить фразу, - извольте предъявить личное оружие для инспекции! Он машинально повиновался, порывистым движением извлёк 'Веблей' и подал его, как положено, рукоятью вперёд. Прокрутив барабан, я оттянул собачку, открыл ствол, и, посмотрев сквозь него на небо, щелкнул замком и протянул револьвер владельцу: - В исправности! - заметив же, что взор его вновь стал осмысленным, добавил полушепотом: - Бога ради! Сию же минуту возьмите себя в руки! Николай Васильевич потупился, принялся нервно теребить рукой гриву лошади и беззвучно шевелить губами, разговаривая сам с собой, всё время от чего-то отказываясь, и для пущей убедительности покачивая из стороны в сторону головой.

Происшествие вернуло меня к действительности. Первым делом мы отступили от обрыва, на краю которого наблюдатель, найдись в тот час таковой, легко бы заметил наши конные силуэты. Сойдя с лошади, я вернулся к краю пропасти и, встав на одно колено, принялся рассматривать набережную в бинокль.
На причалах валялись расколотые армейские ящики, мешки, и несколько забытых впопыхах чемоданов с личным имуществом. Какие-то оборванцы уже рылись в оставленном снаряжении, а в прибрежной полосе бродило множество брошенных кавалерией коней, причем некоторые даже не были рассёдланы.Неприглядною представлялась и прибрежная полоса воды: грязный полузатопленный катер, отвязанные лодки, обломки досок, какие-то незатонувшие узлы... Всеми силами я боролся с собой, чтобы не направить бинокль в сторону ушедших судов, и всё же не выдержал - повернулся к открытому морю. К счастью мало что уже было видно: корма последнего транспорта, флаг, но и названия не различить не то что пассажиров на палубах ... руки сами собой разжались и тяжелый цейс, повиснув на ремне, больно ударил в грудь. Всё!

Между тем пора было позаботиться о спутниках, застывших чуть поодаль наподобие четырех конных статуй, лишь руки которых жили собственною суетливой жизнью, никак не соотносящейся с полной неподвижностью хозяев. Николай Васильевич всё перебирал гриву нервными движениями пальцев, Сережа отрешенно крутил пуговицу на шинели, Иван Ефремович поглаживал механически бороду, вахмистр же запускал в бороду всю пятерню, и потом медленно отводил руку, пропуская между пальцев жесткие с проседью волосы. Постояв немного перед ними, странным, словно чужим, сиплым голосом я приказал спешиться и построиться. Надлежало произносить речь для поднятия духа хотя, что тут можно сказать кроме положенных в таких случаях лживых банальностей, которых они в последний месяц наслушались должно быть вдосталь. Собираясь с мыслями, прошелся вдоль строя: два шага налево, да три направо - невелика прогулка ... два шага назад ... можно откашляться, фуражку поправить, но дальше тянуть время уже нельзя: - Дорогие мои ... я сделал паузу, давая время оценить неординарность обращения, и тут же сбился с доверительного тона, - согласно приказа о эвакуации, Русская Армия покинула пределы Отечества. Войска отошли для отдыха и переформирования на территории контролируемые союзными державами. Нам, волею судеб, выполнить данный приказ не удалось и надлежит теперь изыскивать возможности для самостоятельного отхода из Крыма, временно занятого противником. Принимая во внимание исключительность обстоятельств, приказывать вам следовать за мной не имею морального права и предлагаю добровольное участие. Сейчас прошу разойтись. Те, кто найдут в себе достаточно отваги для продолжения борьбы, соберутся на этой лужайке через четверть часа. Остальные, если таковые найдутся, дождутся возвращения Армии на месте, скрываясь от новых властей в горах ли, в городе ли ... как заблагорассудится. Не дав опомниться, повернулся спиной к строю и спорым шагом направился к обрыву, где сошел на вьющуюся по краю тропку. Но ветер успел-таки донести недовольное бормотание вахмистра, обращавшегося вероятнее всего к Ивану Ефремовичу: - Переформирование, союзные державы ... ишь хитрословие какое! Продолжал ли он ворчать и каков был ответ на его недовольство я не расслышал, да, по совести сказать, и не хотел слышать: через пятнадцать минут всё выяснится без слов. Сперва тропинка вполне подходила для скорой ходьбы, но вскоре сузилась, и, чтобы безопасно продвигаться по ней, мне то и дело приходилось придерживаться рукою за скалу. Наконец тропа исчезла и пробираться далее, рискуя свернуть себе шею, было глупо, а стоять на ветру, прижавшись спиной к холодному камню и смотреть на море - нелепо. Волей-неволей пришлось поворачивать вспять, хотя прошло от силы пять минут, и появляться ранее мною же назначенного срока не хотелось. Поддев носком сапога обломок скалы, проследил взглядом его падение на далекие, забрызганные пеной камни: 'Кончить всё разом? Ну нет, такой радости я комиссарам не доставлю!'. По-прежнему, придерживаясь временами за скалу, и от греха подальше избегая смотреть вниз, вернулся на прогалину, где к немалому удивлению обнаружил Серёжу, примостившегося на замшелой известковой плите. Он сидел скрючившись, полы распахнутой шинельки стелились по земле, а упёртые локтями в колени руки обхватывали голову, с которой слетела фуражка, и коротко и неровно стриженные русые волосы его, торчащие пучками между смыкавшимися на темени пальцами слегка подрагивали на ветру. Заслышав шаги, юноша вскочил и с придыханием затараторил: - Я с Вами пойду, я под Новочеркасском в партизанском отряде четыре месяца сражался, я в корпусе отмечен был за ... - В высшей степени похвально, но ... - не зная какова длина заготовленной речи, и, памятуя о его способностях уговаривать штабное начальство, я оборвал кадета жестом руки, - коль скоро Вы намереваетесь и далее служить под моим началом, потрудитесь-ка выполнять приказы. Велено было разойтись на четверть часа. Они ещё не прошли. Он насупился и поджал губы так, словно намеревался откусить их, отчего стал похож на обиженное матерью малое дитя, затем, подобрав порывистым движением кадетскую, с красным околышем фуражку, направился по направлению к лесу, но свернул зачем-то к своей лошадёнке, похлопал ее по крупу, подтянул подпругу и, сверкнув напоследок полным обиды взглядом, скрылся среди деревьев. Но в тот же миг, в десяти шагах от лошадей, я заметил Ивана Ефремовича, расположившегося спиной к поляне и употреблявшего отведенное мною на раздумья время на то, чтобы перекусить. Судя по движениям рук, он как раз отрезал себе ломоть хлеба либо сала: 'Ладно, пусть ест, не заставлять же хромоного лишний раз по камням скакать'. Я попытался пристроиться на облюбованном Сережей камне, но сидеть на нём лицом к обрыву с видом на море оказалось невозможным: мелкие и, надо сказать, неожиданно острые выступы не давали толком усесться, пришлось повернуться к зарослям и созерцать в них широкую спину Ивана Ефремовича. Руки его уже не двигались, зато даже издали заметно было, как на скулах ритмично надуваются желваки: 'Всё-таки это было сало, ишь как жует!'. Не теряя надежды устроиться покомфортней, я шарил, не глядя, по поверхности камня руками в поисках удобной опоры, но вместо этого нащупал веретеновидную язву жеоды, по краям которой, словно налимьи зубки, топорщились ряды остреньких кристаллов кварца. Указательным пальцем провел по их неровным граням, зачем-то стал заталкивать палец дальше внутрь, а затем, потянув его обратно, поранился. На подушечке выступила малюсенькая капелька крови, стала набухать, округляться, поползла ленивой улиткой вниз, оставляя за собой неровный алеющий след. Как зачарованный, глядел я на сочащуюся кровь, и вдруг перед глазами словно граната праздничного фейерверка взорвалась: замелькали огни, ставшие внезапно деревенским пожаром, метались люди, кто-то стрелял, кто-то падал, затем картины задергались, замелькали, как в кинематографе когда срывается лента: свадебные процессии, с кровавыми пятнами на подвенечных платьях невест, опять пожары, тела, тела, женские лица в обрамлении сальных спутанных волос и безостановочный вой приближающегося, но так и не падающего снаряда ... хотелось кричать, но вой этот лишил рассудка, опустошил голову, которой я очумело замотал из стороны в сторону, казалось открой рот и из него польется всё тот же нескончаемый вой; в глазах потемнело, но окровавленные лица не исчезли, а напротив, проступили явственней, принялись отвратительно гримасничать, пришли в движение, закружились каруселью. Не в силах переносить этот бесовской хоровод и полностью от ужаса потеряв власть над собой, я выхватил револьвер и опомнился только почувствовав губами холодный металл ствола. Всё смолкло, казалось, что самый воздух застыл и сжался, готовясь принять в себя резкий звук выстрела: ни одного движения вокруг, Иван Ефремович и тот прекратил жевать и напряженно замер , но не оборачивался. И тут, как-то со всех сторон сразу и чуть ли не прямо в голове моей раздался его ровный, исполненный спокойствия голос: - Глупость надумали, Ваше благородие, лучше вон покушайте со мной, свинья она свинца-то посытней. То ли каламбур и вправду был смешон, то ли сдали до предела истрёпанные нервы, но на меня напал буйный хохот, оружие, налившись неимоверной тяжестью, выскользнуло на траву из безвольно разжавшейся руки, приступы насильственного смеха сотрясали тело так, что заколебался даже служивший сиденьем камень, а я с ужасом понял, что противоестественная весёлость грозит вот-вот перейти в слезы. Понудив себя подняться на ноги, я подошел к лошади, извлёк из седельной сумки охотничью оплетенную флягу с коньяком, откупорил её трясущимися руками и, подсел к своему нечаянному спасителю: - Выпьете? За здоровье? - Благодарствуем, Ваше Благородие, только не стану Вашего пить, уж больно пахучее, у меня свой запасец имеется, а вот Вам оно не повредит. Кивнув в знак согласия, я поднес баклажку к губам, но едва почувствовал холод металла, как воспоминание о только что пережитом кошмаре неудавшегося самоубийства заставило отдернуть руку. Взбешенный собственным слабоволием, я с силой, чуть не раздробив зубы, 'вонзил' горлышко в рот и, запрокинув голову, влил в себя изрядную порцию обжигающего питья. Иван Ефремович провожая глазами мои судорожные глотки приговаривал: - Так-так, один глоток на здравие, другой на веселие, третий на вздор. Здоровьем Бог Вас не обидел, веселья Вам, как я видел только что, хватает, ну а вздора Вы не допустите ... а вот и господин штабс-ротмистр, - и он, кряхтя, поднялся, как бы приглашая меня пройти на поляну. Серёжа тоже не заставил себя долго ждать, но вахмистр не появлялся. Мы обменялись несколькими малозначащими репликами, потоптались у лошадей, затем Николай Васильевич достал часы, недоуменно хмыкнул и, пожав плечами, отошёл в сторону. Становилось ясно, что дальнейшее ожидание бесполезно, а может статься, что уже и опасно: как знать простой ли страх заставил казака сбежать или запали ему в голову мысли похуже: - Ну что же, быть посему... дальнейший путь проделаем вчетвером. Полагаю, что лошади будут только обузой: в нашей ситуации пробираться лучше там, где верхом не пройдёшь. Попоны прихватим с собой - укрываться от холода, седла и сбрую придётся сбросить в море. Только мы занялись лошадьми как объявился вахмистр. Вид у него был смурый: буркнув ни к кому в особенности не обращаясь: 'Виноват, заплутал я,' - и не задавая вопросов, он взялся распрягать своего жеребца. Заплутал, так заплутал, размышлять об истинных причинах задержки не хотелось, хотя испытать усомнившегося донца не мешало бы. Подозвав его, я указал на соседний свободный от леса косогор, куда за редкой, побуревшей от холодов травкою добралось уже около дюжины осиротевших рысаков: - Как по Вашему, далеко это отсюда ? - На глазок верста будет, но ходу может и две, в горах-то оно знаете как ... - Знаю ... на том склоне наши кони не вызовут никаких подозрений, можете Вы свести их? А мы пройдем поверху и обождем на опушке, там где луговина вдается в лес этаким языком, видите? - Ваше благородие, одному несподручно, может пошлёте ещё кого, на пару? - он глянул с укоризной, давая понять, что хитрость поручения ему понятна и помошника просит единственно с целью показать, что 'плутать' на сей раз не намерен. Пришлось отправить с ним Серёжу. Они повели наш табунок по откосу, то и дело пропадая за купами кустов и массивными валунами. Вахмистр размашисто шёл впереди, а Сергей, выломав длинный прутик, сновал без толку вокруг лошадей, забегая то с одного бока от них то с другого, а то погоняя чуть отставшее животное, решившее ущипнуть травки на ходу. Мои наблюдения прерваны были штабс-ротмистром, сообщившим, что нехитрая поклажа наша готова и можно отправляться. Он с усмешкой посмотрел на удаляющихся коноводов: - Ни дать, ни взять Егорий да Влад - покровители стад. - Да уж, Егорий да ... давненько, Вы в деревне не были, с мужиками не общались. За покровителей стад они Егория да Власа почитают, а никакого не Влада. - Что верно, то верно - протянул он с безысходностью, никак не соответствующей ироническому тону предыдущей фразы, - ... не был давненько ... а теперь наверное и не придётся. - Что так? В победе нашей разуверились? - Да не о том я ... матушка три года назад отписала, что лодыри деревенские сходку собрали, организовали комитет какой-то, постановили разграбить усадьбу. Красть там особо нечего было, так они со зла спалили всё. Наливки в погребе бочонок был, его только выкатили и подожгли дом. Даже образов не вынесли. - Увы-увы ... по нынешним временам дело обыденное ... пойдёмте, Ивану Ефремовичу ходить трудно и сколько мы сквозь эти дебри продираться будем неизвестно, а скоро смеркаться начнет. Надо ещё на ночлег куда-нибудь пристроиться: хорошо бы скирду забытую найти, или, если в лесу останемся, так хоть огонь развести. Бог знает, что за холод такой, будто и не в Крыму вовсе, коньяк и тот не согревает. Не желаете, кстати? У меня во фляге пара добрых глотков осталась. - Охотно бы согласился, но не лучше ли на ночь приберечь, а сейчас и ходьбою согреемся. - Ваша правда, что же, пойдём потихоньку. Прихватив скудные пожитки, мы двинулись по склону, и без особых затруднений выбрались к условленному для встречи месту, где уже поджидали нас Сергей и вахмистр, коротающие время отвлеченной беседой, будто присели передохнуть на сборе ягод, а не прятались по кустам в двух шагах от неприятеля. Далее шли напрогляд, сквозь чернолесье, стараясь поскорее удалиться от ставшего враз ненавистным города, в который так стремились ещё час назад. По счастью блуждания по непролазной чаще, особо затруднительные для Ивана Ефремовича, довольно скоро закончились: удалось отыскать плохонькую, зверьем протоптанную, но все же проходимую тропку, сильно петлявшую по склону и порою совсем пропадавшую, но выведшую в конце концов в место, которое в иных обстоятельствах я назвал бы райским.

Обрамленный лесистыми склонами, небольшой, слегка покатый лог, закрывался с севера вычурной формы скалами: самая дальняя и высокая напоминала гигантское ухо, причём сходство дополнялось зияющим в центре сквозным отверстием. Основание скал густо поросло лесом и там, в непроницаемой для света гуще, гранитные исполины теснили своими подошвами ручей так, что, освободившись из каменного плена, тот выбегал в веретенообразную котловину, всё еще сердито фырча и отплевываясь пеной на немногочисленных перекатах. За столетия паводков поток натаскал в ложбину плодородную почву, принес течением семена трав, прорастил их, заботливо укрывая на ночь туманом, а утром окроплял росой, и даже сейчас, в начале ноября, полегшая, иссушенная недавними морозами трава, доходила местами до верха голенищ. Но приувядшее травяное царство обрадовало меня не столько следами своего былого расцвета, сколько тем, что в нижней оконечности ложбины, начисто выкошенной, на фоне густых зарослей лещины, виднелось три стога, нанизанных на малороссийский манер на воткнутые в землю суковатые жерди. Вот оно бивачное счастье: и солома и орехи и дрова в изобилии!- Ну и красота! Заместо причитавшейся сегодня вечером гнилой корабельной воды и шатающегося от качки гамака такой превосходный ночлег, да и растеплилось вроде, - довольно улыбаясь, Иван Ефремович, последним выбравшийся на открытое место, отёр со лба пот рукавом гимнастерки, - а у хозяина плохи дела: такое богатство не докосил, да и укошенное не увёз. - Питьевая вода на наших судах отменного качества, а до дел владельца покоса нам дел нет, зато сено его спасет Вас если не от 'товарищей' то простуды, - я тоже снял фуражку и промокнул лицо платком, - а Вы правы, теплее стало и не только от ходьбы, но всё одно - не лето: намёрзлись бы ночью без сена. Мы с Николаем Васильевичем наскоро произвели рекогносцировку на границах наших новых владений. Как и следовало ожидать, недалеко от стогов к ручью выходила узенькая дорожка, которую использовали для отвоза сена, и из осторожности мы разместились у противоположного, нетронутого косарем конца луга, куда совместными усилиями принесли один из стожков целиком и там растребушили его, устроив вполне сносные ложа, в которые и завалились бы немедля, если бы не голод, оказавшийся сильнее усталости.

Чтобы сгладить неловкость я протянул руку за книгой: - Позволите? - Да конечно! Это наша любимая, в корпусе все прочли, завидовали мне и стащить порывались, так что прятать приходилось. Название с обложки вытерлось: дешевенькое тиснение не выдержало прикосновений десятков рук юных чтецов, а титульный лист и несколько первых страниц потерялись, но, пробежав глазами по строкам, я узнал книгу. Это были 'Les voleurs de diamants' Луи Буссенара, в скверном переводе на русский. На последней странице красовался аляповатый товарный знак: лев и единорог, стоя на задних лапах, передними поддерживали огромный раскрытый фолиант на развороте которого значилось 'Alit lectio ingenium', для задних же лап опорой служило подобие пьедестала с витиеватой надписью: 'Губернское книгопечатное товарищество Дворыкинъ и сынъ'. Умы какой именно губернии обогащали своими изданиями господа Дворыкины, и кого они нанимали в переводчики понять не представлялось возможным. Возглас Николая Васильевича, ни с того ни с сего взявшего на себя роль церемониймейстера, оторвал меня от изучения занятного образчика провинциальной издательской мысли: - Прошу пожаловать к столу, господа, приятного аппетита, - штабс-ротмистр чинно повел рукою в сторону разложенных на засаленной шинели яств. Никто не поддержал его шутливого тона, и ужин прошёл в угрюмом молчании, лишь слегка насытившись, и глотнув из фляг, стали обмениваться многозначительными: 'Н-да, дела ...' и 'Влипли, однако...'. Поначалу немногосложные, комментарии становились всё длиннее и развернутей, и пришлось, упреждая несвоевременные дебаты, объявить, что план дальнейших действий обсудим завтра, а сейчас, установив очередность караулов, все отправляются спать. Казалось, что измотавшись за неделю непрерывных боев с троекратно превосходящими нас большевиками и махновцами, я усну раньше, чем успею укрыться попоной, но не тут-то было. Когда, уподобившись влюбленному в морские глубины ныряльщику, погружался я уже в сладостную пучину сна, некая посторонняя сила со злорадством вытолкнула сознание обратно на поверхность горьких реалий. Сон как рукой сняло и началось то, чего страшился более всего: в мозгу одна за другой, всплывали картины недавно пережитого, галопом проносились разрозненные обрывки недодуманных в горячке битв мыслей, а в довершение всего почудились звуки близкой перестрелки. Рывком приподнялся на лежанке и прислушался - темь и тишь: ни луны, ни звёзд, ни нескончаемого звона цикад, этого любимого романистами и поэтами символа южной ночи. Поэты, правда, предпочитают летнюю пору, а сейчас, на охвативших Крым холодах, только стоявший на часах Сергей шмыгал носом с достойным цикады усердием. Вспомнив, что шинелька у него, что называется 'подбитая ветром', я заступил на пост, отправив простывшего кадета спать. Не успел Сережа толком улечься, как кто-то ещё заворочался, протяжно охнул, затем с кряхтением встал и направился ко мне. - Ни видать ни зги..., - громкий шепот Ивана Ефремовича раздался у меня над ухом, - не идет ко мне сон, дозвольте с Вами в караул. - Хорошо, что не видать, значит неприятель, даже близко подойдя, не разглядит ничего, разве что услышит ... Иван Евфемович, безошибочно истолковав мой ответ как замечание, умолк, а я забыв о его присутствии, отдался полностью невеселым думам о семье, оставленной в Ярославле у друзей, о полковых друзьях, оставшихся лежать в могилах повсюду, где последние три года сражалась Армия, о самой Армии, оставшейся теперь без России, и о России, оставившей свой путь ради блуждания в кровавых болотах большевицкого варварства. Словно попавшие в водоворот щепки, мысли бесцельно носились по этому кругу, то и дело цепляясь за малозначимые детали пережитого, но так и не приближаясь к неведомому центру вращения, в котором, как казалось, скрывалось нечто истинное... Подумать только, три года шла война в принципиально новых для нас условиях, по законам доныне неведомым, без чёткого фронта, практически без тыла, зачастую без связи, без штаба, а мы всё продолжали, при первом же удобном случае, муштровать мобилизованных стрелков на плацу, заставляли их зубрить уставы как 'Отче наш ...' .... 'Отче наш !' - под влиянием внезапного озарения, я дотронулся до плеча Ивана Ефремовича: - У Вас, помнится, молитвослов был? - Молитвослов!? - в голосе его звучало крайнее недоумение: Ваше благородие, темень же, хоть глаз коли. Я-то его в мешке и на ощупь найду, да только как же Вы сейчас читать будете, раньше надо было Молитвослов читать. - Это ничего, Вы, если не затруднит, уж найдите, а я так ... посижу с ним просто ... это ничего, что темно, я по памяти. Он отошёл, зашуршал сеном, выискивая лежавший в изголовье мешок, громко чихнул, чем-то звякнул, но, спустя минуту, появился-таки с книгой. Тем временем показался месяц и, впадая в умиление, я принял это за добрый знак. - Видите, напрасно Вы переживали, что букв не различу, - я протянул руку за книгой, - спасибо, лучше мне к ручью отойти, там покараулить. - Спаси Бог и Вас, где надо на часах стоять Вам лучше знать, а мне уж дозвольте тут остаться. Устроившись на коряге рядом с ручьём, я подставил книгу под лунный свет и с минуту смотрел, не отрываясь, на оттиснутый на коленкоровом переплете золотистый крест, но, раскрыв страницы, чуть не застонал: ни единого слова было не разобрать! Впрочем, решимости моей от этого не убавилось и, закрыв для верности глаза, принялся я вспоминать текст, но в голове носились лишь разрозненные отрывки не составляющие ни единой фразы от начала до конца: выученное, казалось бы навсегда, в детстве, ныне утрачено по равнодушию и привычке бездумно пропускать мимо ушей церковные глаголы. То безвольно скатываясь в уныние, то хватаясь с воодушевлением за всплывший в памяти словесный оборот, промаялся я минут десять и сдался, решив заместо положенных молитв многократно прочесть 'Отче наш'. Исполнившись, как представлялось мне, благоговения, начал: 'Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь и ... и ... и ...' и я похолодел. Невидимая, но непреодолимая преграда не давала дотянуться до последующих слов. Напрягши все силы, в исступлении кинулся на это препятствие, явилась откуда-то нешуточная злость, в голове бурлило, ярость сменялась бессилием, раздражение на всё и вся переходило в чувство жалости к себе, я досадовал, негодовал, начинал сызнова, скороговоркой повторяя слова или медленно, певуче произнося их, в надежде, что как-то проскочу таинственный барьер, но тщетно: всякий раз был останавливаем на том же самом месте. Изнурив себя совершенно и вконец отчаявшись, я сидел, прислушиваясь к отголоскам клокотавших во мне злобы и обиды. Наконец, с ощущением каковое возникает после позорно и безнадежно проигранного сражения, вернулся в лагерь, молча протянул молитвенник Ивану Ефремовичу и улегся на свое давно остывшее место. Повернувшись на спину, посмотрел вверх, в надежде увидеть звёздное небо, но лишь густое сплетение лишенных листьев ветвей угадывалось во мраке над головой, и я показался себе в этот момент листком, давно иссохшим и упавшим на землю листком. Ветер долго трепал его, но он не сомневался, что дерево, могучее дерево, частью которого листок ощущал себя, рядом, крепко держит его и никогда не отпустит. Листок боролся со злющим ветром, даже дразнил его иногда, зная, что накрепко привязан к стволу, и что так было и будет всегда. Не ведая источника своей силы, он упивался ею, представлял себя чуть ли не былинным богатырем, которому непочем любые невзгоды и даже не заметил, как превратился в сухую фитюльку, сметенную ветром в кучу таких же как он бывших листьев, забывших где и как они росли и чьи соки их питали. Еще чуть-чуть и сухие ткани листьев рассыплются в прах, дорожную пыль. Глубокий страх охватил меня и вдруг страстно захотелось в последний перед неминуемой гибелью момент просить у Кого-то прощения. Прощения полного. Не за поступки, которых не вспомнить, не за мысли, чей черный пчелиный рой уже никогда не вернёшь, а за всё, что ни высказать ни описать невозможно. Это безумное желание, подобное последнему отчаянному вздоху утопающего, раскололо мое существо как орех, из груди вырвался тихий протяжный стон и одновременно я понял, что с глазами творится что-то неладное, а коснувшись век почувствовал влагу: 'Бог мой! Да это никак слёзы!'. Пораженный, лежал я, не испытывая ни малейшего стыда за свое темнотою скрытое от посторонних глаз малодушие, и даже не вытирая стекавшие по щекам частые теплые капли, частью застревавшие в двухдневной щетине, а частью скатывавшиеся на кончик воротничка, который вскорости стал мокрым насквозь: 'Как в детстве!' - улыбнулся я уже в полузабытьи. И где-то на границе яви и сна пронеслось в голове: ' ... и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!' ***
Когда холод разбудил, а точнее сказать - выдрал из вожделенного сна, предрассветная серость уже пришла на смену черноте ночи, но Иван Ефремович на посту так и не сменился и вместо утреннего приветствия мне пришлось выговаривать ему за нарушение устава. Настроение было бодрое, а умывание ледяною водой из ручья стерло все следы вчерашней подавленности, да и спутники воспряли духом. Остатки ужина, служившие последним напоминанием о заполненном столькими треволнениями дне, были прикончены безотлагательно и оставалось только определиться окончательно с нашими дальнейшими действиями. Мой план, во всяком случае на словах, был прост: пробраться в Одессу и, если советы не закрыли порт, попытаться тайно проникнуть на любое иностранное судно, а если это окажется невозможным, то направляться к Румынской границе, благо она там рядом.

Проворно собравшись, проверив и почистив оружие, мы оставили живописную долинку и вскорости выбрались на дорогу проезжую, пожалуй, и для телеги. Николай Васильевич пошел впереди, остальные следовали за ним шагах в полуста. Погода не жаловала: небывалый мороз сменился заурядным осенним ненастьем, сизые облака не только небо заполонили, но и лениво разлеглись на всех склонах, а капли моросящего дождя не желали по заведённому природой порядку падать, но висели в воздухе, и по прошествии получаса шинели напитались влагою, изрядно потяжелели и сковывали движения. Однако обстоятельство это нимало не смущало нас, напротив, все старались держать шаг, настолько насколько позволяла скользкая дорожная глина, а Сергей даже запел, хоть и вполголоса, но вдохновенно, вкладывая в слова наивную чистоту чувств:
'Смело мы в бой пойдём,
За Русь святую,
И как один прольём,
Кровь молодую ... '
За поворотом лязгнул затвор...Моментально укрывшись за деревьями, мы приготовили оружие к бою. Пронеслась мысль: 'сейчас прольём без разбора, и молодую кровь и старую ... ', но оказалась преждевременной: на дороге показался Николай Васильевич, ведший пред собою щуплого человечка, сгорбленного сознанием своего полного бессилия и то и дело опасливо косившегося на наставленное на него ружейное дуло. Поравнявшись с нами он остановился и обреченно вздохнул. - Обыскан, оружия не имеет, - штабс-ротмистр отрапортовал, и опустил нервирующий задержанного карабин. Пытаясь определить, что заставило Николая Васильевича арестовать столь невзрачного субъекта, я без стеснения разглядывал пленника. Одутлое лицо его, когда-то ухоженное, а сейчас покрытое неопрятною щетиной, носило следы недавних побоев, бегающие глазки выдавали испуг, а глубокие отметины на переносице говорили о потерянном или спрятанном тесном пенсне, которое давно уже пора было сменить на более просторное. Одет он был в замызганный долгополый зипун, подпоясанный обрывком веревки, и следы от пенсне никак не вязались в его облике с этой драной одёжкой, но явный испуг при виде офицеров заставлял заподозрить в задержанном господине человека недоброжелательного. - День добрый, куда путь держим? - Сад там ..., - и пленник неопределенно махнул рукой вдоль дороги, - яблоневый ... - Скажите пожалуйста! Яблоневый! - я придал голосу насмешливое звучание, - а Вы, стало быть, садовник? - Стало быть ... , - промямлил он до того неуверенно, что очевидно стало, что выдавать себя за садовника ему пришло в голову лишь мгновение назад. - А пенсне, Вы, по известной традиции русских садовников, носите чтобы в ноябре яблоки на деревьях углядеть ? Полноте, сударь, не ломайте дурака, или Вы всерьёз полагаете, что я не знаю как выглядят садовники? Кто Вас избивал, откуда эти лохмотья и отчего Вы испугались при встрече с дозором Русской Армии? - Дозором?! А разве ...? Разве армия ещё здесь? Что-нибудь переменилось?! - в голосе его прозвучала надежда, а глаза от удивления, готовы были вылезти из орбит. Неожиданно в разговор встрял Иван Ефремович: - Что ж ты, Лексеич, бельмы выпучил, а не здороваешься?! - Ты! Вы !... Вот те раз ... - глазки опознанного Алексеевича перестали бегать, руки распахнулись, словно для объятий, но потом почему-то опустились, да и головой он виновато поник - а я вот, вишь как ... так получилось Иван, ей-Богу, я хотел отдать, и в мыслях не было, но сам понимаешь, то да сё ... оказии не случилось, потом война ..., - он замолчал ссутулившись под взглядом Ивана Ефремовича сильнее нежели под дулом наставленного на него ружья. прежде - Ладно, Лексеич, я и без тебя гол-как-сокол остался, так что нечего и вспоминать! Решив, что стану сейчас свидетелем выяснения прямо посреди дороги задержки выплат многолетней давности или иных платёжных дел, я прервал диалог бывших торговых партнеров: - Вот что, милейший, извольте-ка для начала представиться и ответить на мои вопросы, ибо мы здесь не в трактире нижегородской ярмарки и того и гляди можем нарваться на конный разъезд красных. - Красных не встречал, звать меня Никанором Алексеевичем, купец второй гильдии, биржевой старшина ... бывший, да вот Иван ..., Иван Ефремович подтвердить может личность мою, а что с армией? Ведь эвакуацию объявили, я ж из-за этого собственно и в передрягу попал ... - и он едва ли не с претензией указал рукой на разбитое лицо и плачевное состояние своего платья. - Раз не 'товарищей' это рук дело, то полагаю, что Вы наткнулись в лесу на недобитых нами 'зелёных'. И какая же необходимость погнала Вас в такое время пешим в лес, да ещё и в подобном виде? - И лошадь была и вид подобающий. Решил, значит, перед отплытием, проведать сад свой: яблоньки знатные, в округе ни у кого таких нет, и сторожка имеется. Прискакал, а в сторожке человек шесть бандитов ночует, и я к ним, как по вызову, явился. Избили, коня отняли, полушубок новый, сапоги яловые порядком уже стоптанные были, но и их сняли. Такое вот безобразие творится! Раздели и оставили в сторожке, а дверь снаружи колом подперли. Хорошо с одного бока доски у стены подгнили, я Семёну - садовник это мой, ещё прошлым летом велел заменить, а он проваландался, а потом и вовсе сбежал. Так вот, я как в себя пришёл, так гнилую доску-то проломил, и, как собачонка какая, на карачках из сторожки выбрался. - Повезло Вам. - А?! ... а ну с досками-то, ясно дело, повезло конечно... - Да нет, повезло, что не пристрелили и сапоги с полушубком не с мертвого снимали. Вот что я скажу, разлюбезный Вы мой негоциант, если б в свое время, когда на нужды войск пожертвования собирались, не закапывали бы Вы и подобные Вам личности от жадности сокровища свои, то может статься до эвакуации и не дошло бы, и не понадобилось бы последний момент перед погрузкой на пароходы, в лес мчаться. Догадка моя попала в точку, ибо Никанор остолбенел и поза, а особо выражение лица его, живо напомнили мне как однажды, по долгу вежливости, вынужден был высидеть в захудалом провинциальном театрике представление гоголевского Ревизора, и престарелый актер, в роли не то Бобчинского, не то Добчинского, всё действие невнятно лепетавший положенные реплики, в финальной немой сцене проявил непомерное старание, и казалось, что не наигранное изумление при известии о появлении проверяющего из столицы, а реальный приступ страшной болезни сковал разом все его движения. Похожая метаморфоза произошла и с незадачливым купцом. Снова увидел я застывшие в несостоявшемся всплеске руки с причудливо растопыренными пальцами, разинутый, словно для могучего вдоха, рот и, конечно же, глаза, которые он выкатил так, что стало удивительно, как столь объемное тело могло без ущерба размещаться в голове. Но досматривать до конца и эту немую сцену долг вежливости меня не обязывал, потому, лёгким кивком обозначив поклон и подав остальным знак продолжать движение, я оставил Никанора приходить в себя без свидетелей. Уже на самом повороте, не слыша за спиной сбитого шага Ивана Ефремовича, я оглянулся и увидал его стоящим перед Никанором и, по живо подрагивающему концу бороды судя, пенявшим тому за прошлые нечестные дела, либо за нынешнее, чуть не стоявшее жизни скопидомство. Никанор же переминался на одном месте, сконфуженно слушал да согласно кивал, но иногда распрямлялся и затевался говорить с жаром, то и дело прижимая ладони к груди. Наконец, когда я готов был окриком прервать чрезмерно затянувшееся нравоучение, Иван Ефремович вполне по-дружески хлопнул бывшего биржевого старшину по плечу и поспешно нагнал нас: - Ва ... Ваше ... - Отдышитесь сперва, а потом докладывайте! - Ваше благородие, он помощь предлагает, от всей души. В дому имеет запас провизии и одежду гражданскую и очень просит, чтобы Вы не отказались принять. - Думаю, Иван Ефремович, обойдёмся мы без подобной помощи. В селах по дороге разживёмся чем-нибудь, а знакомец Ваш без труда потребит запасы свои самостоятельно. - Так разве ж сейчас в сёла сунешься!? Красные пойдут спрятанных по хатам раненных искать, обыскивать будут, страху нагонят такого, что никто нам не то что краюху, воды не вынесет, а с провиантом-то, и по пустынным местам выберемся. Правоту его слов отрицать было бессмысленно. В последнее время вера в скорый успех белого дела настолько упала, что у селян тяжело стало получать не только хлеб, но даже фураж. Казаки и те смотрели подчас исподлобья и недовольно ворчали. А уж после оставления Крыма какой-нибудь запуганный крестьянин запросто мог нас выдать, впрочем, на надежность Никанора полагаться особых причин тоже не было, да и претило мне принимать что-либо из рук этого пугливого скупца. Но Иван Ефремович не унимался: - Он, конечно, человек прижимистый, в нашем деле как без этого, да и обманул меня однажды, что верно - то верно, факт позорный, ведь под честное слово тогда ещё торговали, один раз нарушишь - всю жизнь не отмоешься ... - Вот как! Он решил таким образом, как Вы изволите выражаться, 'отмыться', так что ли понимать? Старый долг фунтом консервов погасить?! - Зачем Вы так! Долг ему я простил, совсем простил, на что мне долг его теперь. Просто совесть человека заела, времена нонче поганые, мигнуть не успеешь как на том свете окажешься, вот и хочет он доброе дело сделать! - Для добрых дел простор всегда имеется, бедным да голодным раздать можно, в нуждающихся недостатка, увы, нет. Иван Ефремович переменился в лице и с непозволительной вольностью, наклонившись почти к самому моему уху, произнес неслыханным ранее тоном: - А вот Вы и есть отныне и бедный и голодный, да только не усвоите этого никак. Кровь бросилась мне в лицо, 'Да как ты смеешь!' готово было уже обрушиться на несчастного солдата, но первый раз в жизни застряло в горле, Иван Ефремович же отпрянул и смотрел теперь прямо в глаза, но не дерзко, а с сердечной грустью, и этот взгляд почему-то остановил меня. Спутники скрылись за поворотом, Никанор стоял далеко и слышать ничего не мог. Я выдавил из себя положенное 'Забываться изволите!', - потом нехотя, но уже мягче, проронил: 'Ладно уж ...' и направился в сторону Никанора. - Вы хотели нам помочь, не так ли? - Да разумеется, с радостью! Мы с Иваном мигом управимся, туда-сюда и готово дело, домишко у меня теперь плохонький, на самой окраине, к слову сказать не мой домишко, приказчика моего, но оно и лучше, соседи в лицо-то знают меня, а кто таков - не ведают, думают, что родственник дальний. Туда пойдем открыто, улицей, а как стемнеет, дворами выйдем прямо к лесу, а ... а скажите, как скоро войска обратно будут? Ну, как думаете, долго вам в лесу прятаться придётся? - Вы пытаетесь прикинуть, сколько провизии давать ... ?! Никанор Алексеевич, я у Вас ничего не прошу. Время трудное, Вам семью кормить надо, думаю лучше будет, если мы распрощаемся на месте, без обид. Прошу простить за доставленное беспокойство. - Да нету семьи-то ... - он уставился поверх моего плеча в пустоту, ... - хозяйка в восемнадцатом от сыпняка померла, сын, артиллерист, на фронте германском пропал ... бобыль я ... Опешив от подобного поворота разговора, я привычно произнёс: 'Мои соболезнования!' - затем, выдержав приличествующую ситуации паузу, попрощался, но не так-то просто было отвязаться от опрометчиво остановленного нами торговца. Не обращая внимания на то, что с ним уже попрощались, Никанор продолжал объяснять чистоту своих намерений и убеждать, что понял я его превратно, что про сроки высадки десанта он поинтересовался исключительно из, как он выразился, 'патриотических чувств', и далее в том же ключе... В конце концов, чтобы не превращать получение действительно нужного нам провианта в пошлый фарс, я энергичным жестом прервал словоизлияния и, чтобы Никанор не успел перебить, выпалил рубленными фразами как можно скорее: - Весьма обяжете! Проводим вас до окраины. Далее вдвоем с Иваном Ефремовичем. Показывайте дорогу: сзади штабс-ротмистр, далее мы. Не разговаривать. Услышите или увидите подозрительное что - знак рукой подадите, не голосом. Изменение планов и необходимость отхода к городу ради пополнения запасов, пагубно сказались на общем настроении, все приуныли, шли нестройно, а по прошествии получаса стали едва переставлять разъезжающиеся в скользкой грязи ноги, так что Никанор и следовавший за ним строго в двадцати шагах штабс-ротмистр отрывались от нас и скрывались за бесчисленными поворотами, и приходилось то и дело повторять: 'Подтянуться, ускорить шаг; подтянуться, ускорить шаг ... ', но особой действенности в командах этих не было, так как голос предательски выдавал мои сомнения в правильности принятого решения. Нехорошее чувство, что добром эта затея, представлявшаяся мне по здравому размышлению, чуть ли не мародерской, и вызывавшая лишь отвращение, не кончится, росло по мере приближения к окраинам Ялты, а когда наш проводник-'благодетель' свернул с дороги на боковую тропу, переросло в уверенность, что вояж по консервы станет роковым если не для всех, то для большей части нашего отряда. Но было поздно. Никанор, сошедший уже и с тропы, спустился на дно оврага, заросшего цеплявшейся за всё подряд колючей растительностью, сохранившей в награду за свою исключительную колкость, мелкие ярко-зелёные кожистые листья, к которым осень так и не смогла подступиться и оборвать с веток. Взобравшись по склону и выглянув из этого мiра вечнозелёных колючек, я обнаружил, что мы уже в двух шагах от скопления неказистых домишек, явно не в дачной части Ялты. Бок о бок со мной, распластавшись как стрелок на окопной позиции, залёг Никанор, остальные стояли на дне оврага, обирали с одежды обильно настрявшие шипы и шепотом крыли на чем свет стоит невиданные ими в равнинной России чудеса крымской флоры. - Вот здесь я и поселился, безопасности ради, 'товарищи'-то при обысках в такие кварталы не особо суются. - В галифе с лампасами в этом безопасном квартале мы и двух переулков не пройдём. И давно, Вы, такую безопасность предпочли? Красные город только вчера заняли. Я надеялся в тайне, что моя желчность обидит Никанора, и он откажется от задуманного, или же дело предстанет чересчур рискованным и мы отделаемся потерей времени, но, решительно, Никанора было не остановить. - А мы на Ефремыча зипун наденем, погоны его прикроем, сам я в поддёвке останусь - небось не продрогну, до темноты в балочке этой обождёте, а там и мы подойдём с мешками. - В этой Вашей балочке нас врасплох застать и перестрелять, как рябчиков, особого труда не составит, вон на том кустистом пригорке устроимся: лес рядом, овражек тоже недалеко. Если выйдет по задуманному, то на обратном пути сложите всё здесь, на кромке, Иван Ефремович за нами поднимется, а если Вы не побоитесь в одиночестве мешок четверть часа покараулить, чтоб нам его впотьмах потом на ощупь не разыскивать, то будет просто чудно. - Не доверяете? - Осмотрительность проявляю. Ждите здесь, сейчас пришлю к Вам Ивана. Недоброе предчувствие тем временем нарастало. И ведь надо же, чтоб единственные форменные брюки без лампас были на хромом Иване Ефремовиче, который и унести много не сможет и бегством в случае чего ему не спастись. Может лампасы грязью замазать, да самому пойти? - так по сапогам в миг опознают, у Николая Ивановича с сапогами та же проблема. Серёжу посылать никак нельзя. Разве вахмистра отрядить? Уже спустившись и стоя перед всеми, я лихорадочно пытался найти способ заменить Ивана Ефремовича, как он опять угадал мои мысли: - Ваше благородие, да не терзайтесь Вы! В городе спокойно, стрельбы не слыхать. Обыватели либо по домам сидят, обысков ждут, либо на сходку какую пошли - преданность новым властям выказывать. Мы мигом обернёмся, а что хромый, так то не переживайте, я пулемёт станковый на себе носил - справлялся, купец русский он всегда в силе должон быть. Бегать, правда, не могу, так от своей пули не убежишь, а чужой и бояться нечего. Пока я пытался вникнуть в смысл и построение этой фразы, Иван Ефремович, не дожидаясь ответа, стал неуклюже карабкаться по склону, и мне оставалось лишь последовать за ним, чтобы показать пригорок, который на обратном пути ему придётся отыскивать. Назначили и пароль с отзывом, дабы не обознаться - мало ли кто может ночью на окраинах шляться. Повернувшись к Никанору я, на сей раз от всей души, поблагодарил его, пожелал удачи, и ещё раз извинился за причиненные хлопоты, а он только махнул руками, ерунда мол, поднялся в рост и потихоньку побрел к домам. Ивана Ефремовича же я ухватил в последний момент за плечо: - Дело с виду пустяковое, но обернуться может по-всякому. Если к рассвету не вернётесь, мы отойдём в ложбинку, где ночевали, помните? - он кивнул, - дорога по которой сюда шли, вон она, выходит в слободке чуть ниже, найдёте? - он опять кивнул, перекрестился, неожиданно легко вскочил и в несколько шагов догнал Никанора. - С Богом! - только и оставалось мне прошептать им вслед. Выбранный для ожидания пригорок оказался не самым удачным для наблюдения местом: близлежащий склон закрывал дома, куда направились наши посланцы, впрочем сумерки, дотоле копившие силы, прячась по опушкам да оврагам, вскорости наползли на поселок и скрыли его целиком, оставив нам лишь легкий запах дыма, приглушенный лай собак да редкие хлопки выстрелов, каждый из которых тяжело отдавался в душе, а разыгравшееся от вынужденного бездействия воображение неустанно порождало картины одна хлеще другой. Чем больше сгущалась мгла, тем чаще мы подбадривали друг друга повторяя: 'Ну, теперь уж непременно скоро будут!', заглушали беспокойство предположениями, что: 'наверняка полной темноты ждут, не хотят понапрасну рисковать' и прочими обманными заклинаниями, но, когда перевалило заполночь, запас самообмана был исчерпан: стало ясно, что ждать некого. К смертям, даже на войне, привыкнуть нельзя. Можно лишь попытаться спасти рассудок, отгородившись от ежедневной потери ещё вчера таких живых людей, шевелящихся серою массой в траншеях, а сегодня превратившихся в порубленные, пострелянные тела разбросанные по чьей-то пашне, на которую пролили они столько крови, сколько в иные месяцы дождя не выпадает. Невозвращение Ивана Ефремовича и его друга могло означать только одно: они попались красным и если не лежат уже бездыханными в похоронной яме, всё одно - их ожидает смерть, возможно самая лютая, и сил смириться с этим я не мог в себе найти. Давний попутчик, свидетель канувших в лету времен, явленный судьбою вторично, когда окружающее напоминало уже картины из Апокалипсиса, вызвал во мне глубокую привязанность, и просто вычеркнуть его, как вычеркивал последние годы десятки людей было немыслимо. Нервы сдали окончательно, и если бы не ответственность за случайно попавших под мое командование людей, то не один разнузданный красный матросик, пал бы той ночью жертвой безрассудной мести. Но никто не помешал матросикам наслаждаться разбоем: четыре продрогших солдата Русской Армии, с трудом волоча ноги, добрались до заветной ложбины, повались в волглое сено и заснули, тесно прижавшись друг к другу, как оставленные матерью щенки-слепыши. ***
Утро, унылое и серое как солдатская шинель, заставило-таки открыть глаза и созерцать голые ветки кустарника и опостылевшую, стиснутую скалами луговину до половины затянутую дымкой, сквозь которую не проглядывали очертания даже ближних хребтов. Укутавшись в многослойное одеяло тумана, утомленные собственной незыблемостью, горы не желали нас лицезреть в сей ранний час. Ничуть не беспокоились горы нашим присутствием, да и вообще, похоже, что наше существование уже никого и никогда не будет беспокоить. Ещё пару дней назад мы были затянуты в убийственную круговерть: рубили шашками, стреляли, истошным голосом исторгали проклятия или безмолвно молились перед боем, который, казалось, решит судьбу мiра, а сейчас, бесполезные для своих, ненужные врагам, забытые, кажется, и Господом самим, лежали зарывшись с головой в сено и, связанные обязательством дожидаться несбыточного возвращения Ивана Ефремовича, не могли двинуться в дальнейший путь. Сережа, клацая зубами от холода, вылез из сена и попытался согреться сокольской гимнастикой. Мне тоже пришлось встать и направиться к ручью, где после проведенной в холоде ночи предстояло ещё плескаться в воде настолько стылой, что от нее ломило зубы. Стоя в нерешительности у потока и собирая силы для ледяного умыванья, я глядел, как Сережа на полянке производит замысловатые движения руками, задирает ноги и наклоняет корпус. В конце концов он, потеряв равновесие, упал плашмя и, не вставая, принялся далеко вытягивать голову, слегка поводя ею из стороны в сторону: 'Забавное какое упражнение, - подумалось мне, - что-то не припомню такого, походит скорее на те экзерсисы, что мы солдатиков на плацу заставляли делать: 'занятие лежачей позиции при внезапном появлении неприятеля'. Рефлекс сработал безукоризненно: тело уже распростёрлось по земле, а до сознания только-только доходило, что Сережины гимнастические выкрутасы говорили о самом что ни на есть внезапном появлении неприятеля. Преодолев ползком разделяющее нас расстояние и сделав бдительному 'гимнасту' знак разбудить остальных, я, укрылся за небольшим камнем и наблюдал за пятью всадниками, остановившимися на дальнем конце прогалины. Начальствовал у них нескладный, чахоточной худобы тип, на чалой, подстать ему худощавой и длинноногой кобыле, с уродливо вспухшими бабками. Рядом, на приземистой лошадке, сидел грузный парень и издалека эта пара напоминала Дон Кихота и Санчо Пансо. 'Санчо' беспрерывно бубнил, а 'Дон Кихот', явно его не слушая, оглядывался по сторонам, а затем ткнул пальцем в землю перед ногами 'Росинанта' и отдал какое-то приказание. 'Санчо' тут же спешился, достал шашку и несколько раз с усилием всадил её в почву, причём каждый раз, извлекая оружие из земли, он удовлетворенно потрясал им и победно глядел в сторону командира. Худой указал пальцем в иное место, шагах в пятнадцати от прежнего, и картина повторилась: 'Санчо' загонял свою шашку по рукоять в грунт, а 'Дон Кихот' снисходительно кивал. Потом толстый широко развёл руками, как бы показывая контуры предполагаемого к постройке здания, а худой, оборотясь к ''свите'', совершил несколько ленивых круговых движений ладонью. Всадники разделились, начали объезд котловины по опушке, и один неспешно приближался к нам. Из моего укрытия его одним выстрелом ссадить можно было, останется четверо, да на открытом месте .... Рука потянулась к револьверу, но застыла где-то на уровне груди: ведь умываться же шёл, оставив в лагере и портупею и пояс с кобурой! Меня пробил озноб, и предательский испуг отнял способность соображать. Как завороженный глядел я на приближающегося конного, всё более и более вжимаясь в землю, которая всё сильнее и сильнее отдавала удары копыт в такт хрусту сминаемой лошадиными ногами травы. Еще, две-три секунды и ... Снизу послышались крики: остановившись близ одного из стогов, осматривавший нижнюю часть поляны всадник, сильно склонился в седле и что-то ковырял саблей в земле, затем поддел продолговатый небольшой черный предмет и с победным видом протянул его в сторону подъезжающего начальства. Воспользовавшись тем, что командирское внимание было занято разглядыванием важной находки, подъехавший ко мне уже вплотную почти солдат, натянул поводья, и срезав напрямую по лугу, проскакал на противоположную стороны прогалины, опрометчиво оставив верхнюю оконечность без осмотра. Я с силой, до боли, уперся лбом во влажную поверхность камня: 'Да плохи, плохи твои дела: растерялся, струсил, позорно струсил!'. Сдирая кожу на лбу, я вращал упертой в камень головой, словно хотел этим стереть неприятное воспоминание. А события внизу приняли неблагоприятный для зоркого красноармейца оборот: его находка была командирской рукой сорвана с клинка и, если судить по порывистости движений и долетевшим отголоскам бранной речи, с негодованием отвергнута. Всё еще истерично разоряясь, хотя слов было не различить, 'Дон Кихот' повёл свою рать к выезду с луговины, а я, малость обождав, вернулся к своим: - Вот мы и удостоились визита ... какие имеются соображения насчет действий противника? В ответ кто полусонно руками развел, кто плечами пожал равнодушно, и только на лице вахмистра отражались колебанья, сведенные к переносице брови чуть заметно подрагивали, а губы шевелились беззвучно, отражая мучительную работу мысли. Наконец, не решаясь поднять взгляда, он пробурчал себе в усы: - А чего соображать? Уходить надо да и дело с концом. Не ровен час нагрянут большим числом, и тогда уж прошарят все кусты окрест. Выловят и прикончат на месте, хорошо если трупы закопают, а не зверью дадут на растерзание. - Уйти сейчас мы не можем. Мы обещали Ивану Ефремовичу ждать здесь ... как минимум сутки, а прежде чем закопать нас ещё подстрелить надо, касаемо же стрельбы, Вы можете им хороший урок преподать, не так ли? Лихой казак смущенно кивнул головой, на чём вопрос немедленного ухода можно было считать закрытым: - Ещё какие мнения будут? - я вопросительно поглядел на Николая Васильевича. - Похоже на обычный дозор: проверили, нет ли кого, не пахнет ли костром и уехали. Теперь не скоро заявятся. Объяснение меня устраивало, хотя и не согласовывалось с загадочными действиями красных. Стараясь держаться поближе к деревьям, я спустился до стогов, нашел выброшенный ими 'подозрительный' предмет, оказавшийся полуистлевшим армейским башмаком, и поднялся к своим, по-прежнему пребывая в недоумении. Потянулись часы пустого, но неизбежного ожидания, которое каждый пытался скоротать как мог. Вахмистр насобирал лещинных орехов и колол их камнем, производя оглушительный треск. На замечание, что этот способ добычи пропитания слишком шумный он сообщил, что 'ему скудозубому', скорлупу грызть уже не по возрасту и недовольно оскалился, демонстрируя щербатые ряды действительно весьма гнилого вида зубов, но обернул-таки камень куском тряпицы, а сами орехи стал класть на полу шинели. Если не считать издаваемого им время от времени чавканья, то получалось достаточно тихо. Серёжа извёлся от безделья, и то и дело подсаживался ко мне с баснословной глупости прожектами поиска и освобождения сгинувших бесследно посланцев. Когда он предложил совершить вчетвером ночной налёт на чрезвычайку, для выяснения местоположения, которой необходимо было сию же минуту сняться с места и тайно прокрасться в город, стало очевидно, что не займи мы его немедленно каким-либо мало-мальски полезным делом, он отправится совершать налет на штаб ЧК в одиночку. Занять ненавоевавшегося ещё будущего офицера, вынужденного часами замерять в шагах расстояние между кустами на горной поляне в тылу у торжествующего победу неприятеля, задача не из простых, но Сережина тяга к приключениям, пусть и книжным, позволила мне занять сразу двух изнывающих в праздности офицеров, а надо сказать, что штабс-ротмистр к тому времени успел три раза почистить револьвер, пару раз принимался точить саблю, пробовал уже и дремать и разминать гимнастикой затекшие члены. Не обращая внимания на протесты кадета, я засадил его переводить вслух захваченного им из корпуса Буссенара обратно на французский, а Николая Васильевича поставил надзирателем, нисколько не подозревая заранее о трудностях сего поручения. Куцый запас слов и ужасающие пробелы в Сережиных познаниях французской грамматики превращали упражнение в пытку и экзамен на выдержку для обоих. Вскоре они, однако, приноровились друг к другу, увлеклись, и дело пошло на лад. Напомнив о необходимости смотреть не только в книгу, но также и по сторонам, я отправился 'в караул' чуть ниже по ручью, с тайным умыслом избежать тем самым раздражающего воздействия на мой слух плохо поставленного Серёжиного произношения. Усиленное наблюдение за тропинкой, всё движение по которой исчерпывалось перелётом с одного края на другой поднятого вихрем жухлого листа или пучка обороненного сена, быстро перешло в чуткое полузабытье, в котором нет ни отдыха ни расслабленья, да и привидеться может всякое. Посему, когда меж деревьев показался согнувшийся чуть не до земли под тяжестью заплечного мешка человек, я посчитал это игрой воображения. Но плод воображения так знакомо припадал на левую ногу, что сомнений в реальности происходящего не осталось: - Жив! - беззвучно выдохнули губы и лишь затем выкрикнули пароль. Иван Ефремович аккуратно опустил ношу, осел в изнеможении на землю и чуть слышно дал отзыв. Преодолев в несколько размашистых шагов разделявшее нас расстояние, я обнял его за плечи, справился не ранен ли, нет ли погони - он лишь отрицательно мотнул головой; и препоручил заботам подбежавших друзей. Серёжа весь светился и, не будь необходимости поддерживать едва ковылявшего ходока, то он бы, пожалуй, на радостях сплясал. Николай Васильевич всё порывался хлопнуть Ивана Ефремовича по спине, но, видимо, опасался, что столь бурное проявление чувств может сбить того с ног, а вахмистр, забыв про всякие предосторожности, в момент развел огонь, из неведомо где найденных, сухих, почти не дававших дыма поленьев. За радостной суетой все забыли о 'гостинцах', и пришлось спускаться к тропе за объемистым мешком, приподняв который, я искренне удивился силе и выносливости нашего добытчика. Возвращение Ивана Ефремовича, воспринятое почти как воскрешение из мёртвых, жаркий огонь и перспектива ужина необычайно взбудоражили малочисленное лесное общество. Рты от возбуждения не закрывались, всякое действие комментировалось вслух, и голова шла кругом от этих: '... сейчас, сейчас полешек подкинем ... так-с, а сыр лучше порезать тонкими ломтиками ... сюртучок поношенный, но да не до жиру ... ну, Никанор, ну удружил! Молебен ему заздравный закажу... ' - лицо Ивана Ефремовича, не проронившего с момента своего появления ни слова, болезненно исказилось: - Заздравный не выйдет, только за упокой ... - жестянка консервов, выпавшая у кого-то из рук, звонко стукнулась о камень, поставив этим звуком точку в назойливом гудении голосов: - застрелили Никанора, Царство ему Небесное! Иван Ефремович, недвижно уставившись на огонь, молчал, остальные в ожидании скорбного рассказа тоже застыли на месте и недоуменно переглядывались, не смея тревожить его расспросами. Решив, что пауза затянулась, я извлек из вываленных на землю продуктов плитку чаю и, подсев к Ивану Ефремовичу, нарочито с шумом разорвал упаковку. - Выпьете-ка горячего чаю, а потом расскажете про обстановку в городе, про гибель Никанора и про то, как удалось вырваться живым. У Вас, помнится, замечательный чайник был, не одолжите? - Чай - чай, гостя привечай , - невпопад ответил Иван Ефремович, - вот из-за чаю-то мы с Никанором и погорели ..., а чайник вон, к мешку моему приторочен. Берите, кипятите, у кого силы есть. Сережа сбегал за водой, подвесил видавшую виды посудину над огнём, и вскоре кипяток начал с сердитым бульканьем выплёскиваться из носика на уголья. Я заварил чай, наполнив продрогший осенний лес обещающими тепло ароматами, и, вылив в кружку остатки коньяка из фляжки, протянул Ивану Ефремовичу: 'Пейте и рассказывайте!'. Он сделал глоток, поморщился, не то почувствовав привкус коньяка, не то обжегшись о разогревшуюся жесть кружки, и поставил дымящийся сосуд на землю: - Дом у него на самом краю овражка стоял. В один мешок продукты поклали, в другой одежду. Никанор велел их прямо через окно в овраг валить. Мол, увидят соседи, что с мешками из дверей выходим, донесут, и мне новой смены властей в кутузке дожидаться придётся. Если не хуже ... Спустили мешки, я говорю: 'Не канителься, пойдём', а он упёрся: 'Должен гостя хоть чаем уважить, да и не стемнело еще. Увидят, как мы по оврагу груженые выбираемся, сейчас же патруль кликнут.' Ладно ... поставил самовар, лампу засветил. Я говорю: ' Не зажигай, пусть думают, что нет никого', - а он смеётся: 'В потёмках мимо рта кружку пронесу.'. Только сели, в дверь прикладом как шарахнут, засов враз слетел и в комнату трое громил ворвалось. Один увидел погоны мои и ну орать, что на месте пристрелит, а рожа у самого радостная, будто червонец золотой в грязи нашел. А Никанор стол под низ хватил, прямо с самоваром и лампой на нём, и в них запустил. Мы стол этот пустой, не накрытый, до этого с трудом вдвоём ворочали, чтоб ход открыть в подпол, где Никанор провизию держал. Красные вопят в темноте, кипятком самоварным ошпаренные, а Никанор меня, как мальчонку: одной рукой за шиворот, другой за пояс и в окно. Прямо сквозь стекло. Я в овражек качусь и вижу: Никанор в окне показался, да из груди штык вылез, в спину, значит, пырнули. Высунулся тот, что на меня орал, стал в бурьян наугад палить - темнело уже, не видать меня в зарослях; а его-то ещё разглядеть можно было. Я браунинг вытащил, навел, на спуск жму, а выстрела нет. С непривычки с предохранителя не снял. Как сообразил, так с первого выстрела уложил гада. Он в окошко и свесился. Гляжу, второй с ружьём из окна прёт, на выстрел прямо, бестолочь пьяная: не смыслит ни бельмеса, а суется бесом ... И второго уложил. А третий испугался, за подмогой утёк. - Где ж ты браунинг-то раздобыл? - удивился вахмистр. - Так то Никанор дал. Сказал: 'тебе нужнее!'. С ружьем, мол, в строю хорошо, а по лесам прятаться неудобно: ствол за сучья цепляется. Подарил, одним словом. А я взял, не стал артачиться. По тылам-то не будешь с ружьём пробираться, а пистолет всегда в кармане спрятать можно. Он его, правда, по иному прятал, да так, что давеча ни бандиты, ни господин штабс-ротмистр не нашли ... Иван Ефремович замолк и протянул руки к огню. Но видно было, что ему хотелось выговориться и, что, собравшись с духом, он продолжит: - Мешки подобрал, навьючил на себя кое-как, стал сквозь кусты продираться. А уж совсем темно стало. Вылез на задний двор чей-то, возле курятника, а прямо передо мной два господина стоят - курят. С перепугу слова вымолвить не могут. Я поздоровался, как положено. Один, постарше на вид, ответил: голос хороший и выговор чистый: 'Вы, - говорит, - дезертир?' Отвечаю: 'Никак нет, фуражир!'. Мешки с плеч скинул, стою. А господин опять за свое: 'А на плечах что?'. Говорю: 'Раньше мешки были, а сейчас одни погоны остались.' Переглянулись они: 'Давайте быстро с нами, в курятник, а под утро, когда паника уляжется, мы Вас в лес выведем'. Отказываться не стал. Тот, что постарше, в угол забился, свечку зажёг, принялся книгу читать и в тетрадь выписки делать. А молодой, в шинели студенческой, сидит, молча на меня пялится. Смотрю в щелку в стене, а в дому у них свет горит. Говорю, ну просто, чтоб разговор затеять: 'А пошто в дому свет жжете, керосин не жалеете?' Молодой ответил, что это для конспирации. Придут, мол, с обыском, увидят свет в дому и будут туда ломиться, а мы из курятника в овраг улизнуть успеем. Я сказал, что хитро придумано. Потом спросил, что за книгу старший читает в такое время. Тот услышал, от чтения оторвался, сказал, лекцию готовит для студентов. Война - войной, а науки преподавать надо. Не то Россия с неучами одними останется. А потом и вовсе растолковались. В городе, говорят, обыски повсюду, грабеж. Священника на Царских вратах в церкви вниз головой распяли. Рабочих, что помогали наши корабли грузить, расстреляли всех. Офицерам регистрироваться велят, и про это по всем заборам прокламации расклеили. У молодого одна скомканная в кармане нашлась. Краска еще не обсохла - мажется, а написано с ошибками: - Это не ошибки, Иван Ефремович, это у большевиков орфография такая, - вмешался Николай Васильевич. - Так я ж и говорю, с ошибками пишут. - А зачем офицеров регистрировать? - на сей раз в разговор встрял Сережа. - А они, мой юный друг, - не унимался Николай Васильевич, испытывают господ офицеров на знание иностранных языков и тех, у кого выявят хорошее произношение, поставят в гувернантки для детей Троцкого и Ленина, а остальных определят окопы рыть. Но Вам-то в гувернантки никак не грозит попасть, так что, если нет желания землю копать, то оставайтесь лучше с нами. Пришлось мне прервать его: - Николай Васильевич, ей-Богу, прекратите балагурить! Продолжайте Иван Ефремович, продолжайте: - Наши катер в порту бросили, так те офицеров наловят и везут на катере том в море топить: десант на Кубань называется... Сережа с кошачьим фырканьем вскочил на ноги, от возмущения не способный вымолвить ни слова и лишь часто, с сипением дыша. Сходство с рассерженным котом дополнялось горящими, широко раскрытыми глазами. Чтобы не травмировать его, я перевёл разговор на иное : - Ну, а о союзниках что-нибудь слышно? Англичане, французы ... - Какое там ... французы ... француз, сорви голова, живет спустя рукава, шилом бреется, дымом греется... нет, Ваше благородие, о союзниках ничего не слыхать. Зато у большевиков, говорят, мадьяр какой-то командует. Рассказчик отвернулся к костру и погрузился в горестные переживания а может в свободную от дум свинцовую усталость, но уже через минуту скренился на бок и захрапел; пришлось перенести его на сено, и, укрыв попоной, оставить спать. Огонь, ко всеобщему огорчению, пришлось погасить, но тлеющие головешки давали еще достаточно тепла, чтобы собрать всех вокруг костровища, а света от пробегающих временами язычков пламени хватало, чтобы выхватить времена из тьмы чьи-нибудь протянутые к углям озябшие ладони. Сережа, до крайности потрясенный услышанным, допытывался у Николая Васильевича подробностей о всевозможных эксцессах красных. Тот неохотно отвечал, а вахмистр, не вступая в разговор, согласно кивал, подтверждая тем, что довелось и ему видеть последствия бесчеловечных расправ, либо слышать о них рассказы. В какой-то момент, после особо прочувствованного кивка, он чрезмерно подался вперёд и, чтобы не упасть, уперся ладонью в землю, да так и застыл в неуклюжей позе с выражением озабоченности на лице, явно прислушиваясь к ощущениям в руке, а затем припал к земле ухом: - Конные! Не меньше десятка! Лагерь свёрнули в одночасье, но не успели еще заплечные мешки приладить, а на покосе вытянулась уже вереница всадников, возглавляемых утренним курьезным персонажем на 'Росинанте', окрас которого мертвенный лунный свет и осевшие на ворсе капли росы превратили из грязно-белого в благородно-серебряный. Иван Ефремович, всё еще колдующий, не вставая с сена, над узлом своего мешка, прошептал: - И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть ... - Мистик-паникёр. 'Конь блед !' ... бред! Кляча заезженная, серой масти, а сидит на ней какой-нибудь мастеровой из чухонцев, - Николай Васильевич оборвал цитату. - Отставить разговоры! Уходим. - я подал руку Ивану Ефремовичу: то ли встать помог, то ли извинился за несдержанность собрата-офицера. Мы двинулись вверх по ручью, но надежды срезать путь и быстро выйти на дорогу не оправдались: пришлось Бог весть сколько пробираться во тьме кромешной по каменистому руслу, под задорное журчание воды и непрестанное брюзжание Николая Васильевича, которому суждено было этой ночью не пропустить ни одного склизкого камня. Когда его ропотные жалобы грозили уже перейти в громогласную ругань, отыскалось наконец удобное для подъема место. То и дело подсаживая друг друга, скользя на камнях и цепляясь за оголённые корни, карабкались мы всё выше и выше пока не обнаружили, почти на ощупь, хорошо утоптанную тропинку, ведшую, как вскоре выяснилось, к замыкавшему луговину с севера скальному 'уху', основание которого, мы, сами того не заметив, миновали низами. Кто и когда проложил эту торную дорожку оставалось непонятным. Может быть проводники прогуливали здесь дачников, готовых во имя спасения от пляжной скуки, совершить поход в горы того лишь ради, чтоб взглянуть на раскинувшуюся внизу долинку сквозь окно, проточенное в камне воздушным резцом природы. Удовольствие, впрочем, сомнительное, тем более, что красивых горных видов в окрестностях Ялты хоть отбавляй. С оставленной нами поляны, куда невесть зачем пожаловали красные, донеслось лошадиное ржание и меня осенило, какого рода интерес заставлял экскурсантов подниматься к скале. Наверняка, при сильном ветре с моря, стоя у отверстия в скальном 'ухе', можно расслышать, что говорится на прогалине. Я представил, как юную кокетку проводят к скале, а кавалер спускается в долинку и изъясняется в любви предмету своего обожания, находясь в пол версте от оного. Может статься и иные предлагались развлечения для особ желающих послушать чужие разговоры, оставаясь при этом невидимым, но в нашей ситуации редкий природный феномен мог сослужить службу и позволить понять, какая надобность погнала комиссаров посреди ночи в горы. Предложив остальным остановиться и перевести дыхание, я поднялся к оказавшемуся выше человеческого роста отверстию в скале. Слышимость действительно была потрясающей, но разобрать хоть одну членораздельную фразу не получалось: шум от ударов заступа покрывал собой остальные звуки. Рыть в подобном месте траншеи или обустраивать артиллеристскую позицию лишено было всякого смысла и снедаемый любопытством я напрягал слух и зрение, силясь понять к чему эта многолюдная суета в малоприметной долинке. Внизу кто-то принялся давать команды, растягивая на латышский манер и немного путаясь в словах,: - Да-а-вольно! Выкидыва-ать инструмент наверх! Шаховец, Ефремко, пересчитывать лопа-аты! Куда лазишь, сволочь офицерская! Пойди наза-ад в яму! И остальных туда же! Живей-живей! Косноязычные эти приказания заставили стиснуть зубы так, что в висках заломило - цель утреннего визита выяснилась: проверяли мягка ли земля и размечали контуры могилы - я невольно содрогнулся, вспомнив отмеренное шагами пространство. Но с какой стати посылать разведку, да тащиться в горы по темноте, они же зачастую на центральных площадях при свете дня расстреливали?! Страстное желание дерзкого нападения захлестнуло меня: пойти напропалую, открыть пальбу, посеять панику: кто-нибудь из наших да спасется в темноте бегством - нет, поздно, вот-вот грянет залп и лес вберет в себя стоны добиваемых штыками раненных. Вместо залпа раздался приказ: - Что глядеть, да-авай кидай землю! Лопаты заскрежетали о камни, но удивительной силы и чистоты, словно с амвона, голос перекрыл этот шум: 'Да воскреснет Бог, и расточаться врази Его ...' и тут же глухой удар прервал молитву, а в установившейся тишине кто-то просительно, почти жалобным тоном произнес: - Товарищ Выцикайтес, может всё-таки пулю ... - Пулю!? Пули революции еще понадобятся! И так сдохнут! В несколько прыжков, клокоча от ярости, я настиг оставленных на тропе друзей: - Закапывают! Живьем! За мной! Мы ринулись стремглав по размокшей колее, и даже звонкое чавканье сапог казалось не поспевало, путаясь в древесных стволах и затихая где-то далеко за спинами. Увы, нам дорого встала эта спешка: на прикрытой кронами деревьев дороге царил чернильной густоты мрак, и мы проскочили нужную развилку, а в тот злосчастный момент, когда готовы уже были развернуться, среди деревьев обнаружился, наконец-таки, проход, и мы устремились в него, ожидая вот-вот услышать стук лопат и проклятья изуверским способом казнимых офицеров. Вместо этого послышалось тихое журчание: мы выскочили к ручью чуть ниже по течению, чем поляна казни. Позабыв в горячке только что полученный урок хождения по горному руслу, я принял опрометчивое решение: подняться по водотоку. Теперь ветер нёс все звуки в сторону врага, и пока мы, крадучись, пробирались сквозь завал, боевой настрой, столь необходимый в предстоявшей схватке, растрачивался на борьбу с хаотичным нагромождением древесных стволов. Наконец до слуха долетел храп лошадей, и сквозь кусты проглянуло место казни. Спасать было уже некого: у края поляны простиралась насыпь свежей земли, похожая на обычный могильный холм, только очень протяженный, а палачи, управившись с гнусной работой, собирали инструмент и рассаживались по седлам. Заметно было, что им не по себе от содеянного: они то и дело озирались, и в лунном свете мелькали белые пятна испуганных лиц, а трясущиеся огоньки папиросок выдавали неуёмную дрожь в руках. Неуверенный, неизвестно кому адресованный вопрос, выразил вслух терзающее убийц сомнение: - А ежели кто из них не задохся? Путы на руках порвёт и отроется, не дай Бог ... - А вот ты у них заместо бога и будешь: посторожишь до утра и отрыться не дашь. Да-авай, спешивайся . Над поляной раздался хохот, в котором злорадство смешалось с испугом: - Товарищ военком, да он сбежит со страху! - Не сбежит, ты его караулить будешь. На рассвете обоим быть в городе с ра-апортом. Остальные за-а мной! И каратели спешно, не соблюдая толком строя, ретировались, оставив нам на расправу своих часовых. Страшась мертвых те забыли бояться живых, курили и громко переругивались, облегчая нам задачу. Неслышно подкрасться и покончить с ними двумя ударами шашки не составило большого труда, и едва тела их рухнули на траву, мы бросились к свежей могиле и принялись исступленно разбрасывать руками комья земли в надежде откопать живым хоть кого-нибудь, как вдруг за спиной раздался протяжный стон. Далее события стали развиваться куда быстрее, чем хотелось бы. Один из зарубленных, как полагал до этого, часовых задергался, упираясь головой в землю привстал, на четвереньках метнулся к Сереже и впился зубами в его сапог. Николай Васильевич взвел курок, и, придавив корчащегося на земле недобитого чекиста коленом, ткнул ему револьвер в спину. Понимая, что красные не успели достаточно удалиться, я крикнул: 'Не стрелять!', но окрик потонул в грохоте выстрела, а, осевший от неожиданного нападения на насыпь, Сергей истошно заорал: 'Шевелится! Шевелится!', и пока я в замешательстве, глядя на недвижное тело караульного, пытался понять, чем вызваны эти вопли, за кадетом, отряхиваясь от земли на манер вылезшего из воды пса, выросла фигура плечистого гиганта, который, едва встав в полный рост, кинулся на штабс-ротмистра, пытаясь ухватить того за горло. Покуда мы усмиряли ополоумевшего офицера, принявшего нас за своих мучителей, с дороги донесся топот копыт, и когда штабс-ротмистр, страшно хрипя и растирая горло, поднялся наконец на ноги, на поляну стремительными тенями вылетели всадники, встреченные нашим нестройным огнём. Не дожидаясь, пока красные выстроятся для настоящей атаки, против которой нам не выстоять бы и минуты, подхватив под руки вдруг обессилевшего офицера, мы нырнули в густой подлесок и, под аккомпанемент беспорядочной стрельбы и доносившихся с прогалины отрывистых команд, ломились сквозь него как одержимые, вслепую, не замечая ни хлеставших по лицу веток, ни рвущих одежду толстых сучьев. Радость, что вызволили из могилы хоть кого-то, и неразвеявшийся азарт краткой стычки придавали сил, поэтому остановились на мгновенье лишь: удостовериться все ли в сборе, нет ли раненных, и продолжили бегство сквозь бурелом, наугад, лишь бы подальше, и замедляли наш ход только непредвиденные хлопоты со спасённым, которого кратковременное пребывание в могиле похоже лишило рассудка. Он то и дело впадал в ажитацию, кричал что-то бессвязное, плевался, и вахмистр с Иваном Ефремовичем, опасаясь, что тот начнет буйствовать, хватали его за руки и насильно усаживали. Тогда он погружался в апатию, не желал подниматься, а когда его ставили на ноги едва ковылял и поминутно падал так что его буквально приходилось нести на себе. Мы скоро выбились из сил и, убедившись, что красные рыскать по ночному лесу не отважились, сделали привал, решив определиться с направлением на заре. Ноябрьская ночь длинна, но и ей быстро приходит конец, особенно, если не замечая времени беспрестанно носиться по буеракам, то гоняясь за противником, то улепётывая от него во все лопатки. Не успели мы переброситься парой невнятных восклицаний, пытаясь выразить, наконец, в словах, накопившиеся за последние часы эмоции, как затейливое кружево ветвей, неразличимое доселе во мраке, стало проявляться на фоне розовеющего неба. Близился рассвет, а сна, во всяком случае у меня, не было ни в одном глазу, хотя остальные не прочь были подремать. Предоставив им эту возможность, я остался на часах: сторожить восход и надзирать за обморочным страдальцем, который мог в любой момент очнуться и устроить какую-нибудь выходку. Накануне, прячась за склоном, солнце видело нас впятером, ликующими по случаю чудесного возвращения Ивана Ефремовича, примеряющими гражданское платье и раскладывающими по сумкам консервы. По утру же предстали пред светилом шестеро в разодранных о терновник грязных шинелях, с исцарапанными руками и без каких-либо запасов платья и провианта. Не знаю, удивилось ли солнце перемене сей, или осталось равнодушным, но картина, открывшаяся при первых его лучах, меня повергла в полное изумление: ниже по склону сквозь деревья просвечивала та самая проплешина, на которой мы двумя днями раньше расстались со скакунами и начали путь в Одессу.