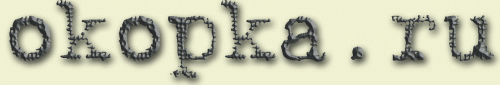
|
||
PDF-версия сборника "Время Донбасса" (3136k)
Сборник "Время Донбасса" выпущен в Луганске, ЛНР в февраля 2016 года. Это итоговая подборка Союза писателей Луганской Народной Республики включающая в себя поэзию, прозу и драматургию авторов Луганской и Донецкой республик, а также России. Литературный сборник создавался при поддержке Министерства информации, печати и массовых коммуникаций ЛНР и лично главы Республики Игоря Плотницкого. Главным информационным спонсором проекта выступило государственное информационное агентство "ЛуганскИнформЦентр". Серьезное содействие успешной реализации проекта оказал сайт современной военной литературы okopka.ru. | ||
Поэзия