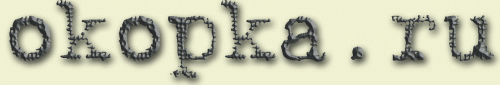
|
||
Мой первый рассказ, который долго не хотели публиковать. Он об одном из тех, кто приумножал славу русского оружия, из руин и пепла возрождал страну, а на склоне лет оказались, по сути, выброшенными на обочину жизни. | ||
Огонь родного очага
|
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |