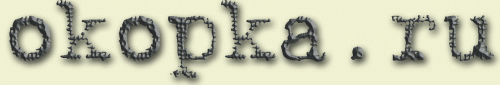
|
||
Рассказ из сборника "Теплое крыльцо" 1987-й г. | ||
"9 сентября 1941 года.
11 сентября.
4 ноября.
5 ноября.
14 ноября.
20 ноября. Войкова, 4.
27 ноября.
4 декабря.
6 декабря.
10 декабря.
15 декабря.
24 декабря.
25 декабря.
5 января 1942 года.
7 января.
8 января.
10 января.
14 января.
20 января.
23 января.
28 января.
5 февраля.
7 февраля.
10 февраля.
12 февраля.
15 февраля.
14 марта.
9 мая 1942 года.
22 июня 1942 года.
3 ноября.
5 ноября.
7 ноября.
3 декабря.
5 декабря.
7 декабря.
10 декабря.
15 декабря.
22 декабря.
|
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |