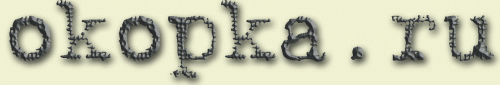
|
||
Отрывок из романа "Солнце светит всем", рассказывающий о жизни портнихи одной из московских ФАБРИК ,а также о её родных и близких. Роман начинается с конца первой мировой войны и прослеживает события до перестроечных времён. Ниже приводится кусочек жизни, связанный с ВОВ. (От автора) | ||